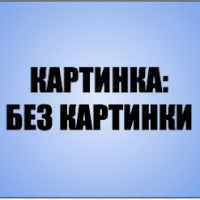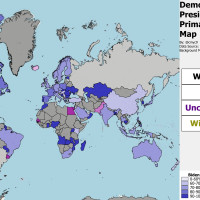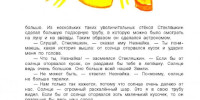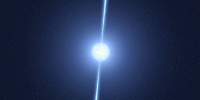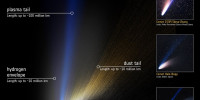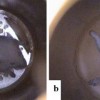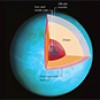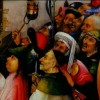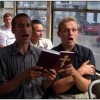Последние новости науки
Sunday, 14 April,

Saturday, 13 April,
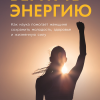
Friday, 12 April,

Наука в блогах

"Птичьи дети" / prokhozhyj.livejournal.com
Тут днями вышла книжка, которую я хотел очень давно – с тех пор, как года четыре назад Игорь Белый прочитал в "Гиперионе" три главки "из пишущегося"....

Заоконье, 8 этаж / prokhozhyj.livejournal.com
"Ну, предположим, чирик?"+12 °C

Melancholy Ecstatic Dance — новый мистический проект Ивана Никто / greenword.ru
В конце марта мастер-диджей Иникто (Иван Никто) провёл мероприятие Melancholy Ecstatic Dance в укромном особняке Бульварного кольца. Оно было приурочено к празднованию...

II тур ШБО / prokhozhyj.livejournal.com
Добрые люди (спасибо им!) прислали мне фотографии меня-вчерашнего. II тур ШБО, "разминочная" часть опроса в кабинете зоологии беспозвоночных. Где-то...

Вверх ногами / shilovpope.livejournal.com
Сидячая медуза Люцернария (Lucernaria quadricornis) неправильно сидит – вверх ногами (стебельком). Обычно они висят прилепленные к ламинариям с помощью присоски на кончике...

Дуршлаг для космоса / don-beaver.livejournal.com
Бонус тому, кто догадается, зачем мне шумовка (между прочим, легендарная, выкованная златоустовским мастером лет сто назад, то ли из титана, то ли из нержавейки, и...